© 2025 Издательство журнала EdExpert
© 2025 Издательство журнала EdExpert
школа. допобразование
Травля в кружках и секциях
Что показало первое исследование
Использованная иллюстрация: Stasia04/Shutterstock
Время чтения — 5 минут
Традиционно тема буллинга обсуждается в контексте школьного образования. Однако в кружках и секциях дети сталкиваются с травлей так же часто. Один из Открытых семинаров НИУ ВШЭ по образованию был посвящен именно этой теме.
- Павел Азыркинэксперт Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ
- Мария Новикованаучный сотрудник Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ, кандидат психологических наук
Идея исследования
Несмотря на то что тема буллинга изучается давно, формулирует исходный тезис Павел Азыркин, в ней все еще существуют лакуны знаний. Наиболее глубоко эта тема исследована в школьном образовании. По данным отчета ЮНЕСКО, около 32 % школьников от 9 до 15 лет в 71 стране мира подвергаются травле в школе. Российские исследования сообщают, что 17 % российских школьников сталкиваются с разными проявлениями буллинга.
«Подходы к описанию феноменологии буллинга очень разные. Иногда даже единичный акт агрессии может интерпретироваться как буллинг, хотя это не совсем верно. Но объединяет исследования то, что они в первую очередь посвящены проблеме школьного буллинга. Мы же уходим от школьного контекста в сторону дополнительного образования», —отметил Павел Азыркин.
С каждым годом увеличивается охват школьников, которые посещают кружки и секции, и важно понять, не сталкиваются ли дети и подростки с буллингом в системе дополнительного образования. В контексте России таких исследований пока почти нет. Между тем система дополнительного образования не исключает риска возникновения буллинга, особенно в тех областях, где есть ожидания высоких образовательных результатов. К сфере дополнительного образования мы отнесли структурированную добровольную деятельность детей, выходящую за рамки основной школьной учебной программы и осуществляемую при поддержке взрослого, под его руководством. То есть если дети вышли во двор погулять, поиграть, эта деятельность относится к досуговым практикам, которые в исследовании не рассматривались.
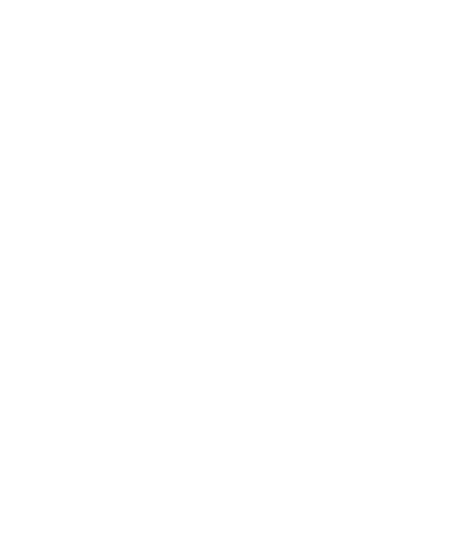
Буллинг — это регулярное, целенаправленное агрессивное поведение одних детей по отношению к другим при наличии неравенства сил или власти. Три признака буллинга: целенаправленность, систематичность и неравенство сил или власти. В результате буллинга происходит превращение в жертву лица или группы лиц.
Теории буллинга
Как и почему одни дети начинают травить других?
Мария Новикова дополнила выступление Павла Азыркина, излагая основные теории буллинга. В числе первых стоит упомянуть теорию социального научения Альберта Бандуры. Согласно этой теории, ребенок с высокой вероятностью будет воспроизводить то поведение, которое он наблюдает в среде, вокруг себя. Так, семейная обстановка, сообщество, район, в котором живет ребенок, привычный уровень агрессии, который допустимо проявлять в поведении, — все это может стать отправной точкой буллинга.
Социально-психологический подход ищет истоки буллинга в особенностях групповой динамики, поведении людей в коллективе, устройстве иерархии и распределении власти, групповых ролей. Концепция отчуждения моральной ответственности описывает феномен рассеивания ответственности, свойственный ситуации буллинга, когда при помощи определенных когнитивных механизмов психика человека защищает его от чувства вины за совершенные поступки.
Социально-психологический подход ищет истоки буллинга в особенностях групповой динамики, поведении людей в коллективе, устройстве иерархии и распределении власти, групповых ролей. Концепция отчуждения моральной ответственности описывает феномен рассеивания ответственности, свойственный ситуации буллинга, когда при помощи определенных когнитивных механизмов психика человека защищает его от чувства вины за совершенные поступки.
Около 32% школьников от 9 до 15 лет в 71 стране мира подвергаются травле в школе. С разными проявлениями буллинга сталкиваются 17% российских школьников
Возникновению и распространению буллинга сопутствует моральное оправдание. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее — к подобным формулам морального оправдания чаще прибегают взрослые. Буллингу присваивается важная развивающая роль: если ребенок подвергся буллингу, то он научится стоять за себя. Дети же часто оправдывают буллинг, используя эвфемистические ярлыки: «Мы так играем».
Способствует возникновению буллинга и механизм дегуманизации, когда жертву называют оскорбительными словами, подчеркивая, что это кто-то, кто не похож на нас, в предельном пределе не совсем человек вообще, поэтому с ним можно так поступать. И часто этому сопутствует атрибуция вины: «Он сам напрашивался, он провоцировал». В науке, особенно в прикладной сфере, действительно выделяют категорию провоцирующих жертв, но все же это никоим образом не оправдывает факт существования буллинга, не делает его легитимным. Существует гипотеза о возникновении школьного буллинга как совместной копинг-стратегии и реакции на стресс. Это неоптимальный, но устойчивый способ каким-то образом удержаться как коллектив, ответить на вызовы среды.
Способствует возникновению буллинга и механизм дегуманизации, когда жертву называют оскорбительными словами, подчеркивая, что это кто-то, кто не похож на нас, в предельном пределе не совсем человек вообще, поэтому с ним можно так поступать. И часто этому сопутствует атрибуция вины: «Он сам напрашивался, он провоцировал». В науке, особенно в прикладной сфере, действительно выделяют категорию провоцирующих жертв, но все же это никоим образом не оправдывает факт существования буллинга, не делает его легитимным. Существует гипотеза о возникновении школьного буллинга как совместной копинг-стратегии и реакции на стресс. Это неоптимальный, но устойчивый способ каким-то образом удержаться как коллектив, ответить на вызовы среды.
Масштаб проблемы
Насколько распространен буллинг в сфере дополнительного образования?
Оказалось, что около трети респондентов хотя бы раз подвергались разным типам травли в рамках дополнительного образования. Распространенность буллинга в кружках сопоставима со средними значениями буллинга в школе, которые были приведены в начале статьи. Возникает вопрос: если посещение кружков и секций добровольное, то как возможен буллинг?
«Дополнительное образование — это образование, которое я посещаю, если хочу, и не посещаю, если не хочу. Казалось бы, если я как ученик столкнусь с агрессией в свой адрес, я могу поменять кружок или секцию. Но выяснилось, что это не является защитным фактором для того, чтобы буллинга не было», — сказал Павел Азыркин.
Предполагается, что в средах с высокой степенью осознаваемости учащиеся «заботятся об общем благополучии и развитии, создают условия для творческого самораскрытия», что противоречит сути буллинга. С другой стороны, добровольность посещения кружков и секций должна приводить к тому, что учащиеся перестают посещать те кружки, в которых их подвергают травле, но результаты исследования этого не подтверждают. Возможно, это связано с тем, что родители учащихся также вовлечены в выбор и решение остаться в определенном кружке или секции, даже если внутренняя среда не совсем благоприятна для ребенка.
Важно, что мальчики чаще подвергаются травле. Это тоже очень схожая история со школой. Особенности социализации, личностные характеристики, менее развитые социально-эмоциональные навыки — у мальчиков.
Важно, что мальчики чаще подвергаются травле. Это тоже очень схожая история со школой. Особенности социализации, личностные характеристики, менее развитые социально-эмоциональные навыки — у мальчиков.
Около трети респондентов хотя бы раз подвергались разным типам травли в рамках дополнительного образования
По мере взросления все меньшая доля детей заявляет об участии в буллинге в роли жертв. Возможно, дети с возрастом осваивают более конструктивные стратегии решения конфликтов.
Дети с более низким социально-экономическим статусом (СЭС) и успеваемостью чаще становятся жертвами буллинга. Но тут, с одной стороны, низкий социально-экономический статус сам по себе может являться причиной виктимизации. С другой стороны, СЭС связан с большим доступом к интеллектуальным ресурсам, к культурному капиталу, которые могут выступать здесь как раз таки защитным фактором против виктимизации.
Дети с более низким социально-экономическим статусом (СЭС) и успеваемостью чаще становятся жертвами буллинга. Но тут, с одной стороны, низкий социально-экономический статус сам по себе может являться причиной виктимизации. С другой стороны, СЭС связан с большим доступом к интеллектуальным ресурсам, к культурному капиталу, которые могут выступать здесь как раз таки защитным фактором против виктимизации.
«Спорт — это интересный аспект. С одной стороны, мы видим, что занятия в спортивных секциях сопряжены с более высокими рисками виктимизации: высокая конкуренция, борьба за авторитет и так далее. С другой стороны, спортсмены используют эти негативные эмоции, и взрослые могут если не легитимизировать, то как минимум поддерживать. Ребенок думает: „Вот сейчас разозлюсь, чтобы в соревновании выиграть“. Некоторые виды спорта развивают навыки коммуникации, коллаборации, что может являться и защитным фактором», — пояснил Павел Азыркин.
Будут ли показатели буллинга выше в коллективах с высокими образовательными ожиданиями? Результаты исследования говорят, что да. Вероятно, в таких средах проще прибегнуть к механизму морального оправдания. Агрессивное поведение в таком случае может быть объяснено и легитимизировано стремлением к высоким результатам: у нас дальше олимпиада, соревнования, еще что-нибудь.
«Интересно, что, когда мы только договаривались о проведении этого исследования и разговаривали с руководителями организаций, мы часто встречали скепсис: у нас ничего такого нет и быть не может. Очевидно, что, если детям не нравится, они уйдут. У нас среда очень свободная, дети общаются по-другому», — отметил Павел Азыркин.
Но было бы интересно продолжить исследования. Например, одинаково ли распространен буллинг в разных типах коллективов. Например, в тех, где в основном индивидуальная деятельность, и тех, которые подразумевают командную работу. Какова ситуация с буллингом в коллективах, где есть солист или прима и есть другие, которые хотели бы занять это место, например в танцевальных или хоровых коллективах.
Специфика проявлений
Мария Новикова отметила: в ходе исследования были выявлены статистически значимые различия, особенно в отношении физического буллинга. Например, в школьной среде чаще фиксировались случаи порчи имущества, тогда как в дополнительном образовании наблюдалась физическая агрессия, направленная непосредственно на человека. Она отметила, что физический буллинг остается наименее распространенным видом агрессии, но выявленные различия стали важным фокусом для дальнейшего анализа.
«Что касается статистической значимости, наиболее заметные различия наблюдаются в ответах на вопросы, связанные с физическим буллингом. Например, на вопрос «Случалось ли такое за последний месяц на кружке/секции/клубе (не считая каникул), чтобы тебя специально толкали или ударяли» и «Случалось ли такое, чтобы твои вещи специально портили, прятали или выбрасывали» были получены интересные ответы.
В школьных выборках чаще фиксировались случаи, связанные с порчей имущества, однако в нашем исследовании мы обнаружили статистически значимое различие в частоте физической агрессии, направленной непосредственно на человека. Это стало для нас важным фокусом дальнейшего анализа. Стоит отметить, что физический буллинг, как и в других исследованиях, остается наименее распространенным видом агрессии как в школьной среде, так и в дополнительном образовании", — пояснила Мария Новикова.
В школьных выборках чаще фиксировались случаи, связанные с порчей имущества, однако в нашем исследовании мы обнаружили статистически значимое различие в частоте физической агрессии, направленной непосредственно на человека. Это стало для нас важным фокусом дальнейшего анализа. Стоит отметить, что физический буллинг, как и в других исследованиях, остается наименее распространенным видом агрессии как в школьной среде, так и в дополнительном образовании", — пояснила Мария Новикова.
Татьяна Подушкина, заведующая сектором Центра доказательного социального проектирования и Центра прикладных психолого-педагогических исследований МГППУ, также обратила внимание на сложность обобщения проблемы буллинга в дополнительном образовании. Она подчеркнула, что проявления буллинга могут быть локальными и зависеть от конкретной среды. В некоторых коллективах буллинг может быть выражен, а в других полностью отсутствовать. Это требует более глубокого анализа функций среды и механизмов, которые либо способствуют, либо препятствуют возникновению буллинга.
«Насколько корректно говорить о наличии буллинга в дополнительном образовании в целом, если его проявления могут быть локальными и зависеть от конкретной среды? Здесь важно глубже проанализировать функции среды и механизмы, которые способствуют или, наоборот, препятствуют возникновению буллинга. В некоторых коллективах это явление может быть выражено, а в других полностью отсутствовать», — сказала Татьяна Подушкина.
Екатерина Бушина, кандидат психологических наук, заместитель директора, ведущий научный сотрудник Центра социокультурных исследований Высшей школы экономики, доцент департаментапсихологии, добавила, что дополнительное образование представляет собой более мягкую систему, где создаются комфортные условия для интеграции детей в коллектив. Однако роли, которые дети играют в школьной среде, могут переноситься в кружки и секции. Это открывает перспективу для изучения вопроса о том, как школьные модели поведения воспроизводятся в дополнительном образовании.
«Я согласна с тем, что дополнительное образование, вероятно, представляет собой более мягкую систему, где к участникам могут прислушиваться и создавать комфортные условия для интеграции в коллектив. Однако мне кажется, что роли, которые дети играют в школьной среде, могут сохраняться и в кружках. Это интересная гипотеза, которая заслуживает дальнейшего изучения», — отметила Екатерина Бушина.
Роль свидетелей и динамика группового поведения
Екатерина Бушина также подняла важный вопрос о роли свидетелей в процессе буллинга. Она подчеркнула, что исследования часто фокусируются на агрессорах и жертвах, игнорируя значимость пассивных наблюдателей. Бездействие свидетелей может усугублять ситуацию, и важно донести до детей, что их пассивность также является частью проблемы.
«Изучение этой роли могло бы стать важным направлением для будущих исследований. Также было бы интересно применить социометрические методы для выявления тех, кто чаще всего оказывается в роли жертвы, и проанализировать, как личностные характеристики влияют на это», — отметила она.
Неизученная тема
Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ, подчеркнул, что буллинг в дополнительном образовании остается недостаточно изученной темой. Это открытие подчеркивает важность формулирования актуальных вопросов, которые связаны с практическими проблемами и научным интересом. Он отметил, что исследования должны находить баланс между теорией и практикой, чтобы быть полезными как для ученых, так и для педагогов.
«Я впечатлен тем, что вопрос о буллинге в дополнительном образовании, который, казалось бы, должен быть очевидным, оказался недостаточно исследованным. Это открытие подчеркивает важность формулирования актуальных вопросов, которые связаны с практическими проблемами и научным интересом», — отметил специалист.
Дискуссия показала, что изучение буллинга в дополнительном образовании требует комплексного подхода. Выявленные статистические различия и специфика буллинга в дополнительном образовании открывают перспективы для дальнейшего анализа и разработки практических рекомендаций. Дискуссанты подчеркнули необходимость дальнейшего анализа влияния среды, роли свидетелей, возрастных особенностей и групповой динамики. Были предложены новые методологические подходы, такие как социометрия и работа с учителями, чтобы минимизировать влияние социальной желательности.
Как отметил Сергей Косарецкий, исследования в этой области имеют потенциал стать значимыми как для научного сообщества, так и для практиков, если они будут учитывать уникальные особенности дополнительного образования и использовать серьезные методологические инструменты.
Как отметил Сергей Косарецкий, исследования в этой области имеют потенциал стать значимыми как для научного сообщества, так и для практиков, если они будут учитывать уникальные особенности дополнительного образования и использовать серьезные методологические инструменты.
Возникновению и распространению буллинга сопутствует моральное оправдание. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее — к подобным формулам морального оправдания чаще прибегают взрослые
Текст подготовили по материалам докладов Открытого семинара ВШЭ по образованию Александра СТРУКОВА, стажер-исследователь Центра психометрики и измерений в образовании НИУ ВШЭ, аспирантка НИУ ВШЭ, секретарь Открытых семинаров НИУ ВШЭ по образованию, а также студентки НИУ ВШЭ Полина ПОЛОЗОК и Анастасия СКОРОХОДОВА
Подробнее об Открытых семинарах по образованию: ioe.hse.ru/seminar/
Благодарим журнал «Вопросы образования», выступивший партнером этой публикации.
Подробнее об Открытых семинарах по образованию: ioe.hse.ru/seminar/
Благодарим журнал «Вопросы образования», выступивший партнером этой публикации.
Если статья была для вас полезной, расскажите о ней друзьям. Спасибо!
Читайте также:
